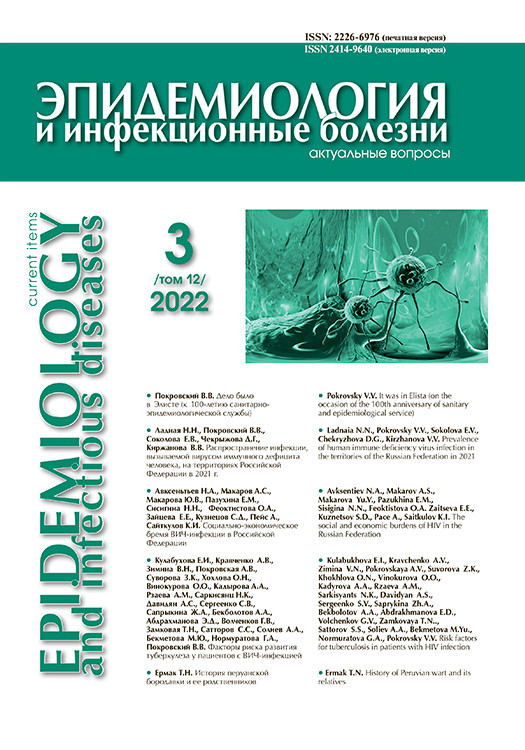Немногие помнят со студенческих пор, что такое доброкачественный лимфоретикулез, вряд ли вспомнят окопную или траншейную лихорадку и тем более перуанскую бородавку, болезнь Карриона или лихорадку Оройя. А уж о бациллярном ангиоматозе и вовсе не слышали. Тем не менее все эти заболевания – родственники.
Перуанская бородавка. Болезнь Карриона (лихорадка Оройя). В странах Южной Америки в течение длительного времени предполагалось наличие двух самостоятельных болезней — перуанской бородавки и лихорадки Оройя. Еще в доколумбовы времена на севере Южной Америки была известна эта лихорадка, указания на массовую гибель людей от нее имеются в памятниках инков. В 1531 г. испанская армия, осаждавшая Перу, потеряла от этой болезни почти четверть личного состава. Ла-Оройя – город на высоте 3800 м, металлургическая столица Перу. В этих местах нет одноименной лихорадки. Там добывают и выплавляют серебро, медь, свинец и другие цветные металлы. Все это вывозится на берег Тихого океана по высокогорной железной дороге между Лимой и Ля-Оройя, на строительстве которой в 1871 г. заболели и умерли 7000 чел. В их крови возбудители расплодились и заразили почти каждый эритроцит, что привело к сильнейшей анемии. Заболевание сопровождалось высокой температурой, желтухой, тахикардией, анорексией, головной болью и другими симптомами интоксикации. Смертность составляет более 40% и может достигать 90% в случаях присоединения вторичной флоры. Железную дорогу, пересекавшую Западную Кордильеру Анд на высотах более 4000 м, строить было трудно, а из-за эпидемии потребовались дополнительные капиталовложения в проект, что способствовало банкротству Перу. Как раз тогда заболевание получило название лихорадки Оройя. Предположение об общей этиологии двух перуанских болезней возникло именно во время строительства железной дороги. Один американский инженер, участвовавший в строительстве моста, после тяжелой лихорадки вернулся домой, где его стали донимать бородавки. Наблюдавший его венесуэльский врач Рикардо Эспиналь описал обе патологии и предположил, что это 2 стадии одного заболевания. Перуанские врачи это признавали, тем более что индейцы давно считали так же [1]. Летом 1885 г. в Лиме Вольная академия медицины решила повысить свой престиж и объявила премию тому, кто докажет инфекционную природу перуанской бородавки. Студент 6-го курса Daniel Carrion, который впоследствии был назван «мучеником перуанской медицины», заразил себя кровью больного перуанской бородавкой. Он хотел привить себе материал из волдырей, которыми покрываются многие перуанские дети, доказать инфекционную природу болезни и получить за это деньги на стажировку в Париже. В присутствии членов академии 27 августа Карриону сделали прививку, втерев материал из бородавки 14-летнего больного в надрезы на коже. 17 сентября Каррион почувствовал боль в левом голеностопном суставе. Еще через 5 дней кожа побледнела, склеры стали желтыми, появилась кровь в моче, головная боль была невыносимой. Больной быстро терял силы, и с 26 сентября дневник заболевания вели с его слов однокурсники. 28-го они записали комментарий: «Замечательна в самом деле скорость развития анемии». В ночь на 30-е Каррион догадался: «У меня лихорадка Оройя…» и перед смертью высказал мнение, что лихорадка Оройя и перуанская бородавка имеют общее происхождение. Каррион признан в Перу национальным героем; его именем названы университет, больница, город, провинция и стадион, а день его смерти отмечается как День перуанской медицины [1–3]. Таким образом, впервые было установлено, что лихорадка Оройя и перуанская бородавка являются двумя клиническими фазами одной и той же болезни.
Считается, что лихорадка Оройя начинается после первичного заражения, а перуанская бородавка развивается после выздоровления от первичной инфекции, то есть является второй фазой болезни. Симптомы лихорадка Оройя включают высокую лихорадочную реакцию и выраженную гемолитическую анемию, которая может развиваться очень быстро или постепенно. Характерны симптомы интоксикации: боль в мышцах и суставах, сильная головная боль; часто наблюдаются признаки нарушения сознания вплоть до комы. Возможно развитие бактериемии, вызванной Salmonella spp. или другими микроорганизмами, и тогда шансов на выздоровление не остается. В основе развития перуанской бородавки лежит аномальная пролиферация эндотелиальных клеток, главным ее проявлением являются множественные поражения кожи. Эти приподнятые над кожей красновато-фиолетовые узелки обычно появляются на конечностях и лице и при легчайшем повреждении долго кровоточат (рис. 1, см. на вклейке). Сопровождается все это головной болью и ломотой в суставах, лихорадкой, но симптомы интоксикации проходят с течением времени. Кожные поражения могут сохраняться многие месяцы и даже годы. Распространена эта болезнь в нескольких областях Перу на высотах строго от 500 до 3200 м над уровнем моря [4]. В перуанских Андах бородавка – обычная детская болезнь. Пережив ее, человек становится носителем инфекции, и к ней возникает стойкий иммунитет. Взрослые страдают редко, в основном это туристы. После болезни формируется бессимптомное носительство, такие лица остаются резервуаром инфекции. В настоящее время болезнь распространена из-за миграции человека и географического расширения ареала переносчика. Более того, исследования in vitro продемонстрировали риск развития устойчивости возбудителя к противомикробным препаратам [5].
В 1905 г. перуанский бактериолог и паразитолог Альберто Л. Бартон (A.L. Barton) обнаружил включения в эритроцитах крови больного и принял их за простейших, но уже в 1909 г. он объявил об открытии этиологического агента лихорадки Оройя (Barton bacillus), который позже и был назван в честь первооткрывателя: Bartonella bacilliformis. Чистая культура возбудителя была получена Н. Noguchi и T.S. Bastini (1926). Факт идентичности лихорадки Оройя и перуанской бородавки был подтвержден М. Mayer в 1927 г. экспериментами на обезьянах Масаса rhesus: было доказано, что лихорадку Оройя и бородавки в самом деле вызывает одна и та же бактерия, и больные обезьяны могут заразить своих собратьев разными формами бартонеллеза. Bartonella bacilliformis является эндемиком южноамериканских Андских долин и передается через кровососущих песчаных мух (Lutzomyia spp., семейство Phlebotomid). Люди являются единственным известным резервуаром этой бартонеллы.
Родственники
В 90-е годы ХХ вЕка была доказана этиологическая роль бартонелл (рохалимий) в происхождении бациллярного ангиоматоза, и лишь позже – доброкачественного лимфоретикулеза (болезни кошачьих царапин). До этого велись длительные поиски возбудителя, и этиологическая роль доброкачественного лимфоретикулеза приписывалась различным микроорганизмам (гипотетический вирус, хламидии, Afipia felis). В период с 1932 по 1963 гг. считалось, что возбудителем доброкачественного лимфоретикулеза является вирус. В.И. Червонский в 1963 г. предположил, что возбудитель относится к группе хламидий. Первые убедительные сведения об идентификации возбудителя болезни кошачьих царапин были получены только в 1983 г., когда исследователи, используя метод окраски по Warthin–Starry, обнаружили в ткани пораженных лимфатических узлов у 29 из 34 больных с кошачьей царапиной мелкие полиморфные грамотрицательные бациллы, которые только в 1988 г. удалось культивировать. Именно этот микроорганизм первоначально был признан возбудителем болезни и получил название Afipia felis. Но многочисленные последующие исследования не подтвердили четкой взаимосвязи развития болезни с A. felis: в большинстве случаев у больных в пораженных тканях не только не обнаруживали указанный возбудитель, но и в сыворотке крови не выявляли антител к нему. Американский ученый P. Yep в 1983 г. установил принадлежность возбудителя заболевания к риккетсиям. Благодаря этому был выявлен отдельный род риккетсий – Rochalimea, получивший свое название в честь известного риккетсиолога из Бразилии Э. да Роха-Лимы. В 1990 г. Р. Регнер и соавт. из крови кошек выделили возбудитель, который в 1992 г. был найден и в лимфоузлах больного человека. В 1993 г., после подробного изучения строения его РНК, этот микроб был зачислен в род бартонелл и получил современное название Bartonella henselae (в честь A.L. Barton) [6]. В 1993 г. члены рода Rochalimea были объединены в группу бартонеллезов (эритроцитарные риккетсиозы), которая включает болезнь кошачьих царапин и бациллярный ангиоматоз, окопную или траншейную лихорадку, болезнь Карриона (перуанскую бородавку, лихорадку Оройя), бациллярный пурпурный гепатит, бартонеллезный (рохалимический) синдром с бактериемией, эндокардиты.
К настоящему времени уже выделено более 35 различных видов бартонелл, среди которых Bartonella henselae, Bartonella quintana и Bartonella bacilliformis чаще всего фигурируют как причина заболевания у людей [7]. Бартонеллы являются грамотрицательными аэробными, факультативно внутриклеточными бактериями, нуждающимися для своего роста в гемине или продуктах расщепления эритроцитов. Морфологически бартонеллы представлены в виде коротких палочек (от 0,3–0,5 до 1,0–3,0 микрон), которые в срезах из зараженных тканей могут быть изогнутыми, плеоморфными, часто сгруппированными в компактные скопления (кластеры).
B. henselae (возбудитель болезни кошачьих царапин) и B. quintana (возбудитель траншейной или окопной лихорадки) широко распространены в природе. Их переносчиками являются соответственно кошачьи блохи и платяные вши. In vitro было показано, что B. henselae образует биопленку, которая, вероятно, играет роль в создании и персистенции бактерии в хозяине и развитии рецидива заболевания, а также в передаче переносчиком кошачьей блохи [8]. Серологические и молекулярно-генетические исследования, проведенные в разных странах, выявили скрытую циркуляцию B. quintana среди населения (наличие специфических антител у 0,6–2,5% обследованных), а также ее наличие в популяции вшей. В фекалиях вшей B. quintana сохраняются жизнеспособными до 1312 сут., а в организме насекомого – пожизненно (30–45 сут.). До настоящего времени природный резервуар B. quintana не установлен, единственным источником возбудителя считается человек. Кошки в своем окружении легко заражаются бартонеллами (после укусов блохами Cfenocephalides felis). В организме кошки B. henselae сохраняется более года без влияния на ее существование и является представителем нормальной микрофлоры полости рта. Бессимптомная бактериемия у кошек наблюдается длительно до 17 мес. (срок наблюдения) и прекращается после курса антибиотикотерапии.
По статистике, болезнью кошачьих царапин ежегодно заболевают до 22 000 чел. Только в 2018 г. зарегистрировано 20 523 случая фелиноза (лат. felinus — кошачий), болезнь имеет и ряд других названий, например, гранулема Молляре, лихорадка кошачьей царапины (код по МКБ 10 А28.1 Лихорадка от кошачьих царапин) или доброкачественный лимфоретикулез. Заражение человека происходит при тесном контакте с кошкой (при укусе, царапании, лизании) при повреждении кожи или конъюнктивы глаза. Блохи могут нападать и на человека, осуществляя трансмиссивную передачу. Приблизительно у 90% заболевших в анамнезе есть указания на контакт с кошками. В ряде случаев болезнь развивалась после контактов с белками, собаками, козами, после уколов клешнями крабов, колючей проволокой. Инкубационный период длится от 3 до 20 дней (обычно 7–14 дней). Типичным проявлением является развитие первичного аффекта и регионарного лимфаденита. Болезнь может протекать как в острой форме, так и в хронической. На месте уже зажившей ранки после укуса, укола или царапины появляется небольшая папула от 2 до 5 мм в диаметре с ободком гиперемии кожи, затем она превращается в везикулу или пустулу, а в дальнейшем – в небольшую язвочку (не всегда). Первичный аффект локализуется чаще на руках, реже – на лице, шее, ногах. Общее состояние при этом остается удовлетворительным. В 40–75% случаев первичный аффект остается незамеченным или может отсутствовать (чаще у больных ВИЧ-инфекцией).
Течение заболевания может иметь необычный характер и сопровождаться системным поражением организма, что проявляется полиморфизмом клинической картины. Возможны появление разнообразной сыпи, тромбоцитопенической пурпуры, поражение костей, суставов, печени, селезенки, развитие висцеральной лимфаденопатии. Такое течение в основном характерно для лиц с выраженным поражением иммунитета и хорошо описано у больных ВИЧ-инфекцией. Это проявление фелиноза часто выделяют под названием «бациллярный ангиоматоз», который в настоящее время считается генерализованной формой доброкачественного лимфоретикулеза. При этом развивается ангиоматоз кожи в виде одиночных или множественных безболезненных папул красного или пурпурного цвета, от точечных до более крупных, беспорядочно расположенных на разных участках тела, конечностях, голове и лице. В дальнейшем папулы увеличиваются (до размеров лимфатических узлов или небольших опухолей, напоминая гемангиомы) и могут возвышаться, подобно грибам, над кожей. Некоторые из них нагнаиваются и напоминают пиогенные гранулемы. Иногда развиваются поражения в виде бляшек с центром гиперкератоза или некроза. Многие сосудистые разрастания кровоточат. При более глубоком подкожном расположении сосудистых разрастаний появляются узловатые образования, размеры которых могут достигать нескольких сантиметров (рис. 2, см. на вклейке). Они также располагаются на любом участке тела, часто диффузно по всему телу или на голове. Возможно сочетание поверхностных и более глубоко расположенных подкожных сосудистых разрастаний, а также поражение сосудов внутренних органов и костей, вплоть до выраженного остеолиза. Бациллярный ангиоматоз протекает с лихорадкой, выраженной интоксикацией. Характерны значительное повышение скорости оседания лейкоцитов, лейкоцитоз [9]. Бациллярный ангиоматоз был впервые описан M.H. Stoler и соавт. в 1983 г. у ВИЧ-инфицированного пациента с множественными подкожными узелками и низкими параметрами иммунитета [10]. Впоследствии в качестве возбудителя этой формы болезни были установлены B. henselae и B. quintana. Бациллярный ангиоматоз все чаще выявляется и у других лиц с ослабленным иммунитетом, нередко – у иммунокомпетентных хозяев [11]. Бактерии обнаруживают в эритроцитах, клетках эндотелия сосудов, селезенки, лимфатических узлов, печени, костного мозга, кожи. В клапанах сердца у больных с выраженным эндокардитом обнаруживают многочисленные вегетации, состоящие из фибрина и тромбоцитов (микроскопически определяются массы внеклеточно расположенных возбудителей и поверхностные воспалительные инфильтраты), на створках клапанов – перфорации. Если входными воротами является конъюнктива, происходит развитие окулогландулярного синдрома, напоминающего конъюнктивит Парино (Parinaud,s syndrome), что может наблюдаться у 3–7% больных [9, 11]. При этом, как правило, поражается один глаз. Через несколько дней лихорадки и интоксикации на фоне резкой гиперемии и отека конъюнктивы появляется один или несколько узелков, которые могут изъязвляться. Лимфатический узел, находящийся перед мочкой ушной раковины, значительно увеличивается и в последующем часто нагнаивается с образованием свищей, после чего остаются рубцовые изменения. Иногда увеличиваются и подчелюстные лимфоузлы. Поражение костного мозга, протекающее как острый остеолитический процесс, описано у 35% больных с внекожной формой бациллярного ангиоматоза. При поражении внутренних органов возможны самые разные клинические проявления и осложнения (например, закупорка просвета бронха, обструкция желчевыводящих путей, абсцессы печени, мозга).
В самостоятельную форму заболевания выделяют бациллярный пурпурный гепатит (bacillary peliosis hepatitis), однако более правильно эту форму расценивать как вариант течения бациллярного ангиоматоза с преобладанием признаков поражения паренхимы печени. Поражение мелких сосудов печени приводит к формированию в них кистозных образований, переполненных кровью, которые сдавливают клетки печени. В результате развиваются застойные явления и нарушение функции печени.
В отдельную форму выделен также бартонеллезный (рохалимийный) синдром с бактериемией (B. quintana), длительно протекающий и сопровождающийся недомоганием, потерей аппетита, снижением веса, рецидивами лихорадки. При этом развиваются эндокардит и признаки сердечной недостаточности. Синдром проявляется постепенным (в течение нескольких месяцев и лет) развитием чувства быстрой утомляемости, появлением умеренной лихорадки, значительным снижением массы тела, иногда носовыми кровотечениями, сыпью на конечностях, кашлем. Возможно развитие желтухи, увеличение печени и селезенки, отеков. Отмечаются тахикардия, гипотония, систолический шум, нарушение ритма. Развиваются анемия, умеренный лейкоцитоз, иногда тромбоцитопения. Эта форма заболевания чаще наблюдается у лиц, ведущих бродячий образ жизни и страдающих хроническим алкоголизмом.
При тяжелом течении бартонеллеза симптомы интоксикации, анемии и поражения внутренних органов нарастают и могут привести к гибели до 40% больных. У больных ВИЧ-инфекцией на поздних стадиях без своевременного лечения болезнь быстро прогрессирует и почти всегда заканчивается плохо.
Траншейная лихорадка (Волынская лихорадка, окопная лихорадка, пятидневная лихорадка, лихорадка костей голени). Это заболевание, передающееся через вшей, вызванное грамотрицательными бактериями Bartonella quintana, впервые выявлено у солдат во время Первой и Второй мировых войн. Указания на пятидневную лихорадку имеются у Гиппократа, Галена, Рази. Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. заболевание описано как молдавско-валахская лихорадка. Широко была распространена в годы Первой мировой войны (особенно в Волынской губернии, отсюда и название). Впервые описана немецкими учеными X. Вернером и X. Гисом в 1916 г. [12]. Впервые наблюдавшаяся среди британских экспедиционных сил в 1915 г. траншейная лихорадка поразила примерно 500 000 солдат. Команда исследователей во главе с Davide Tanasi раскопала останки на римском кладбище в Сиракузах (о. Сицилия), и обнаружила в них ДНК-свидетельства болезни у гражданских лиц, похороненных до Первой мировой войны. В общей сложности были проанализированы фрагменты костей и зубов 145 чел., живших в период с I по XIX вв. Примерно 20% останков содержали следы Bartonella quintana. Эти результаты подтвердили роль пульпы зуба в диагностике бактериемии B. quintana у людей в древних популяциях [13]. Траншейная лихорадка эндемична в Мексике, Тунисе, Эритрее и периодически проявляется среди бездомных в США. После 14–30-дневного инкубационного периода внезапно появляются лихорадка, слабость, головокружение, головная боль с сильным ознобом, резкой болью при движении глазных яблок и выраженной слабостью, инъекция сосудов склер и выраженные боли в спине и ногах. Больные отмечают сонливость, сильную головную боль, боли в мышцах и суставах, особенно в крестце и нижних конечностях и очень часто жалуются на боли в большеберцовых костях. Часто бывают тошнота, многократная рвота, диарея. Наблюдаются снижение артериального давления, учащенное сердцебиение, одышка. Лихорадка может достигать 40,5 °C и сохраняться в течение 5–6 дней. Приблизительно в половине случаев лихорадка повторяется 1–8 раз с 5–6-дневными интервалами. Появляются преходящая пятнистая или папулезная сыпь, а иногда гепатомегалия и спленомегалия. В некоторых случаях может развиваться эндокардит. Рецидивы могут проявляться в течение 10 лет после первоначального заражения. Случаи траншейной лихорадки все еще регистрируют преимущественно среди лиц, ведущих бродячий образ жизни, БОМЖ. В 1998 г. эпидемия траншейной лихорадки вспыхнула в лагере беженцев в Бурунди [14].
Заключение
Перуанская бородавка, вызванная B. bacilliformis, может быть неотличима от бациллярного ангиоматоза, вызванного другими видами бартонелл. Кожные проявления бартонеллезов включают макуло-папулезную сыпь при траншейной лихорадке, пап
улы или узелки при болезни кошачьих царапин и системный васкулит. Кроме того, при бартонеллезе описаны крапивница, узловатая эритема, мультиформная эритема, маргинальная эритема, кольцевая гранулема, лейкоцитокластический васкулит, гранулематозные реакции и ангиопролиферативные реакции. Среди бартонелл, патогенных для человека, различают «классические» хорошо известные бартонеллы: B. bacilliformis, B. quintana, B. henselae, B. elizabethae, B. clarridgeia и появившиеся новые представители значимыx в качестве возбудителей клинических форм бартонелл: B. grahamii, B. vinsonii subsp. vinsonii, B. arupensis, B. berkhoffii, B. washoensis, B. koehlerae, B. alsatica, B. tamii и др. B. elizabethae и B. vinsonii berkhoffii могут вызывать эндокардит, а B. grahamii – увеит [7]. Клиническая картина болезни кошачьих царапин теперь почти не соответствует первоначальному типичному описанию 1950 гг., а скорее представляет собой широкий спектр признаков и симптомов, включая отсутствие документированной кошачьей царапины, лихорадки, первичных поражений или периферической лимфаденопатии. В последние годы увеличивается число публикаций, посвященных спектру возбудителей и клиническим проявлениям бартонеллеза [11]. Поражение глаз включает ретинит и нейроретинит, экссудативную отслойку сетчатки, отек диска зрительного нерва, витрит. До развития глазных симптомов при этом наблюдалась лихорадка. Большинство пациентов были молоды и имели нормальные параметры иммунитета [15]. Встречаются неврологические проявления, связанные с B. henselae, они проявляются в основном нейроретинитом, энцефалитом и менингитом. Описано развитие эпидуральной эмпиемы головного мозга у здорового человека с множеством кошачьих царапин на коже головы [16]. Немало сообщений о поражении почек, печени и селезенки даже у лиц без поражения иммунитета [17–22]. В работе Ф.С. Харламовой и соавт. [23] представлен анализ течения бартонеллеза у детей, поступивших в Морозовскую детскую городскую клиническую больницу г. Москвы. Дети поступали с направляющими диагнозами «шейный лимфаденит», «лимфаденопатия», «лихорадка неясного генеза», «острая респираторная вирусная инфекция с синдромом менингизма», «абдоминальным синдромом», «лимфогранулематоз», «ОРВИ с афтозным стоматитом», «серозный менингит». Почти у всех детей отмечали высокую лихорадку в течение 7–20 дней; лимфаденопатию с вовлечением множественных групп лимфоузлов; проявления васкулита с папулезно-узелковыми элементами багрово-синюшной окраски размером до 1 см, преимущественно на верхних и нижних конечностях. У некоторых отмечены гепатолиенальный синдром, поражение глаз по типу глазожелезистой формы. Были диагностированы 1 случай гнойного менингита, 1 – эндокардита, 1 – артрита. Только у 4 из 25 больных диагностировали типичную форму болезни кошачьих царапин. Заболевание чаще развивалось у ослабленных детей с персистирующими герпетической и хламидийной инфекциями и у часто болеющих ОРВИ. Таким образом, в настоящее время бартонеллез у детей характеризуется широким спектром проявлений с вовлечением разных органов и системным характером поражения лимфоидной ткани и реже протекает в классической форме болезни кошачьих царапин, повторяя течение болезни у взрослых. Работа демонстрирует трудности диагностики на догоспитальном этапе, а учитывая широкий спектр клинических проявлений инфекции и потенциальные осложнения, бартонеллез необходимо рассматривать среди возможных диагнозов при дифференциальной диагностике различных состояний.
Какие факторы влияют на увеличение частоты выявления инфекции, вызываемой бартонеллами? Это ослабление иммунной системы, связанное с сопутствующими состояниями со снижением иммунитета, пересадкой органов и иммуносупрессивной терапией, ВИЧ-инфекцией, высокая миграционная активность населения, бедность, низкий доход и антисанитария.
История перуанской бородавки продолжается.