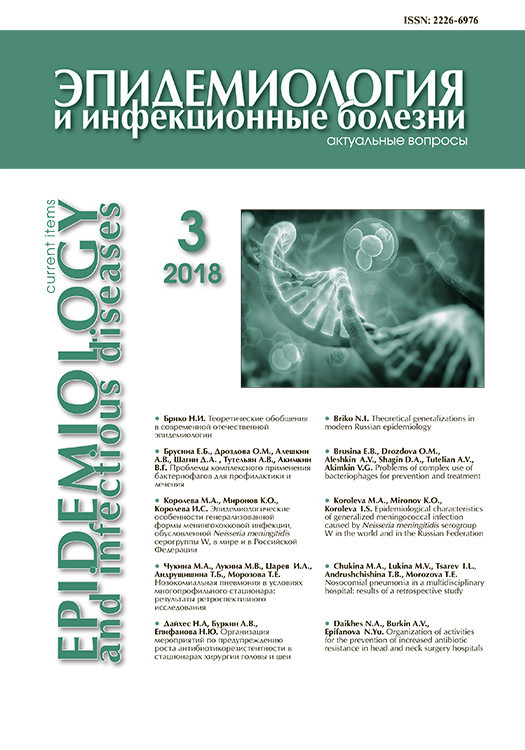Эпидемиология – одна из древнейших наук. Изначально в медицине параллельно с изучением болезней человека (клинический подход) формировалось изучение заболеваемости населения (эпидемиологический подход). Среди великих дискуссий, происходивших на протяжении истории развития эпидемиологии, следует особо отметить следующие 4: между сторонниками миазматической и контагиозной концепций о причинах и сути эпидемий; «спор пера и пробирки»; о монокаузальности и причинности в медицине; о путях развития отечественной эпидемиологии в современный период [1].
Первая величайшая дискуссия – сторонников миазматической и контагиозной концепций о причинах и сути эпидемий – продолжалась более 20 веков – с IV века до н. э. до начала XIX века. Обе эти древние концепции внесли важный вклад в современное понимание причин, формирующих патологию людей.
Великие бактериологические открытия конца XIX – начала XX века (Пастера, Коха, Мечникова и др.) произвели революцию в медицине. Патология была разделена на инфекционную и неинфекционную. Стало ясно, что причиной многих эпидемий являются патогенные микроорганизмы. Дискуссия в этот период получила название: «Спор пера и пробирки». Превалировали бактериологические исследования, по выражению В.Д. Белякова, «микробиология нанесла нокаут классическим эпидемиологическим исследованиям» [2, 3].
Этот период ознаменован формированием микробиологии, иммунологии и клиники инфекционных болезней, а также новой эпидемиологии как науки об эпидемическом процессе. Эпидемиология определена как составная часть инфектологии. По выражению О.В. Барояна, «…эпидемиология прочно заняла свое место в слаженной системе оркестра инфектологии» [4].
С одной стороны, это привело к углублению знаний о механизме возникновения инфекционных болезней, а с другой – к трансформации не только предмета эпидемиологии – от заболеваемости (популяционный уровень) к очаговому (изучался эпидемический процесс в узком смысле слова, по выражению Л.В. Громашевского), – но и метода эпидемиологии [5, 6]. Акцент делался на работу в эпидемических очагах по выявлению источников и механизмов заражения инфекционными болезнями.
Следует отметить, что именно в этот период в России были достигнуты знаменательные успехи в теоретических обобщениях в области эпидемиологии инфекционных болезней, которые, выдержав проверку временем, и сегодня являются теоретической базой системы борьбы с инфекционными болезнями.
Ряд авторов с полным правом говорят о том, что эпидемиология инфекционных болезней – русская наука. Конечно, наука не имеет национальности, но совершенно определенно можно говорить о весьма существенном национальном российском вкладе в мировую эпидемиологию. Действительно, это так. Как утверждал основоположник отечественной эпидемиологии, автор первого руководства «Основы эпидемиологии» Д.К. Заболотный: «У нас есть что написать на знамени борьбы с эпидемиями» [7].
Важнейшие теоретические обобщения в ХХ веке:
- теория механизма передачи Л.В. Громашевского [5, 6];
- теория природной очаговости Д.К. Заболотного [7], Е.Н. Павловского [8];
- учение о сапронозах В.И. Терских [9];
- теория (концепция) саморегуляции паразитарных систем В.Д. Белякова [10];
- теория соответствия и этиологической избирательности основных путей передачи шигеллезов В.И. Покровского, Ю.П. Солодовникова [11];
- социально-экологическая концепция Б.Л. Черкасского [12].
Все обозначенные теории со временем, по мере накопления новых научных данных, уточнялись и дополнялись. Л.В. Громашевским [5, 6] эпидемический процесс был определен как непрерывная цепь заражения людей или теплокровных животных и объявлен единственно возможным способом существования в природе возбудителей инфекций, а возможность каких-либо перерывов была признана «антинаучным допущением». Вместе с тем сегодня накоплено достаточно много фактических данных, свидетельствующих о том, что любая эпизоотическая цепь конечна, как в равной степени и эпидемическая; они неизбежно ограничены во времени и пространстве.
Накапливались данные о том, что иногда при наличии необходимых предпосылок классической эпидемиологии (одновременное присутствие возбудителя, восприимчивых хозяев и условий передачи) заболеваемость людей (животных) отсутствует годами, даже десятилетиями, и вдруг «внезапно» без видимых причин сменяется периодом активной циркуляции возбудителя.
Этот парадокс В.Д. Беляков с соавт. [10] предложили искать в клонально-селекционных процессах, вызывающих адаптивную перестройку популяции возбудителя. Согласно этим процессам, межэпидемическому периоду соответствует резервационная стадия существования возбудителя, которая обеспечивает длительное сохранение его в популяции без активного проявления эпидемического процесса.
Получило развитие и другое утверждение Л.В. Громашевского, принятое в отечественной эпидемиологии, о локализации возбудителя и ведущем механизме его передачи как идеальной основе для классификации инфекций. По мнению В.П. Сергиева с соавт. [13, 14], в это «прокрустово ложе» не укладывались не только некоторые инфекционные, но и большинство паразитарных болезней и микозов.
Теория природной очаговости создавалась несколькими поколениями ученых и была сформулирована Е.Н. Павловским [8]. Она касалась прежде всего зоонозных трансмиссивных болезней. В дальнейшем в это понятие стали включать и нетрансмиссивные зоонозы, имеющие резервуары возбудителя в дикой природе, в том числе в водных экосистемах.
Г.П. Сомовым и соавт. [15] и В.Ю. Литвиным и соавт. [16] получены данные, свидетельствующие о том, что положения теории природной очаговости можно распространить и на некоторые сапронозы, если резервуаром возбудителей служат абиотические объекты внешней среды, т. е. авторы внесли ряд уточнений в концепцию сапронозов.
С открытием некультивируемых форм бактерий стало понятно: то, что считалось «отмиранием» патогенных микроорганизмов во внешней среде, оказалось в ряде случаев адаптивной изменчивостью. Эти механизмы способны обеспечить сохранение возбудителей в неблагоприятные межэпидемические или межэпизоотические периоды. Группа исследователей во главе с акад. А.Л. Гинцбургом установила, что при смене условий некультивируемые покоящиеся формы реверсируют в вегетативные, способные вызывать заболевания [17].
На рубеже XX и XXI веков была сформирована концепция микробных биопленок как форм симбионтного существования микроорганизмов [18]. Биопленки практически вездесущи – от вод и почв до слизистых оболочек человека и животных. Их сегодня рассматривают как «социальные» сообщества микроорганизмов, которые обеспечивают обмен генетической и сигнальной информацией и общий для разных видов и компонентов консорциума метаболизм [19, 20].
Как оказалось, до 80% инфекционной патологии человека ассоциировано с формированием микробных биопленок. Очаги биопленок появляются при всех рецидивирующих инфекционно-воспалительных заболеваниях. С проблемой микробных биопленок связана значительная частота внутрибольничных инфекций, плохо поддающихся лечению современными антибиотиками, частота агрессивного пародонтита в молодом возрасте (14–38%), кариеса (90%) и хронического пародонтита (до 96%) [20, 21].
Современный период развития эпидемиологии – популяционный уровень. Характерно дальнейшее развитие эпидемиологии инфекционных болезней. Перед ней стоит много нерешенных задач, перечень которых не только не уменьшается, но и увеличивается. Даже вне эпидемий инфекционные болезни сохраняют свою исключительную социальную и экономическую значимость.
За последние десятилетия произошли существенные изменения эпидемиологических и клинических проявлений инфекционных болезней. Этому способствовал целый ряд факторов социально-экономического, экологического, демографического порядка [22, 23].
Опасность инфекционных болезней связана не только с «реставрацией» хорошо известных, но уже порядком забытых заболеваний, но и с появлением новых, прежде не известных человечеству инфекций. Ежегодно их перечень пополняется на 1–2 новые болезни. Спектр возможных возбудителей болезней человека (в том числе и хронических инфекций) со временем будет расширяться [24].
Не углубляясь в особенности современной эпидемической ситуации, хочется отметить, что эпидемиология инфекционных болезней не остановилась в своем научном развитии, а напротив, наряду с сохранением достижений отечественной эпидемиологической школы, интенсивно обогащается в теоретическом и научно-практическом аспектах.
Для современного периода развития эпидемиологии характерно углубление теоретических представлений о механизме и проявлениях эпидемического процесса:
- сформулировано понятие о глобализации и эволюции эпидемического процесса [24];
- создана концепция универсальности глобальных изменений эпидемического процесса антропонозов с различной степенью управляемости [25];
- разработано положение об унификации системы эпидемиологического надзора и профилактики при сходных в эпидемиологическом плане инфекциях [26];
- создано учение о предэпидемической диагностике [12];
- сформулирована современная концепция управления эпидемическим процессом [12, 27];
- разработаны концептуальные основы риск-менеджмента в эпидемиологии, активно внедряемые при создании стратегии обеспечения эпидемиологической безопасности в медицинских учреждениях, и управления вакцинопрофилактикой [28, 29];
- накоплен материал, свидетельствующий о распространенном характере сочетанной соматической и инфекционной патологии, ведутся работы по изучению коморбидности в эпидемиологии [30, 31]. Рост сочетанной инфекционной патологии можно рассматривать как одну из основных тенденций эволюции инфекционной патологии;
- становится очевидной необходимость разработки адаптированных параметров эпидемиологического надзора и мер профилактики сочетанных инфекций;
- разрабатывается положение об интеграционных и конкурентных формах развития эпидемического процесса [32].
Можно считать завершенной дискуссию о содержании термина «эпидемиологический надзор». Большинство авторов считают синонимами надзор и мониторинг и определяют надзор как подсистему информационного обслуживания системы управления эпидемическим процессом. Задачей эпидемиологического надзора является обеспечение необходимой информацией (минимизация неопределенности) для принятия управленческого решения в системе управления эпидемическим процессом.
Хотелось бы особо отметить, что многие из высказанных положений разработаны и сформулированы сотрудниками ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора.
В последние годы проводились интенсивные исследования по разработке методов математического моделирования эпидемического процесса, созданию электронных баз и атласов ряда инфекций, внедрению геоинформационных систем. К настоящему времени создано большое количество атласов здоровья, позволяющих на национальном, региональном или местном уровнях изучать особенности как инфекционной, так и неинфекционной заболеваемости населения. Сегодня медицинская картография широко применяется в эпидемиологических исследованиях и способствует проверке гипотез по определению факторов, связанных с распространением заболеваний; выявлению групп населения, подверженных риску заболевания, а также для прогнозирования развития ситуации [14].
Дальнейшее совершенствование системы управления эпидемическим процессом предполагает, прежде всего, разработку и внедрение новых технологий эпидемиологического надзора и контроля. Прежде всего, это касается широкого использования молекулярно-биологических и генетических исследований, без которых сегодня невозможно осуществлять эпидемиологическую диагностику и прогнозирование развития эпидемического процесса.
К сожалению, на сегодняшний день для значительной части инфекционных заболеваний далеко не всегда удается идентифицировать возбудитель. Наконец, один и тот же клинический синдром или симптомокомплекс (энцефалит, менингит, пневмония, сепсис, лихорадка и т. п.) могут вызывать десятки бактериальных и вирусных патогенов, в том числе еще неизвестных. Выявлять их «по отдельности» технологически не выгодно или невозможно. В результате в современных условиях этиологическая причина указанных выше состояний оказывается невыясненной в 50–98% случаев. В этой связи остро стоит вопрос использования высокопроизводительных молекулярных технологий с целью выявления и анализа патогенных микроорганизмов.
Мы находимся сегодня на пороге вхождения в метагеномную эру изучения мира патогенных бактерий и вирусов [33]. На наших глазах происходит смена вековой парадигмы диагностики и надзора за инфекционными болезнями: вместо поиска отдельных возбудителей возникает возможность открыть в любом образце биологического материала весь многовидовой спектр генетического материала (метагеном) с последующей его идентификацией по видам, субтипам, генетическим линиям. Все это достигается без культивирования бактерий и вирусов, благодаря приемам амплификации и полного секвенирования всего метагенома.
Крайне важно отметить, что создается возможность быстрой идентификации возбудителя и получения максимально полной характеристики биологических свойств исследуемого микроорганизма или сообщества микроорганизмов (факторы вирулентности и патогенности, детерминанты резистентности к антимикробным препаратам, мобильные генетические элементы).
Генетические технологии составляют основу предиктивной и персонализированной медицины. За сравнительно короткий период они достигли действительно фантастического уровня: от выявления точечных мутаций до расшифровки генома и старта полномасштабных геномных и постгеномных исследований. Сегодня в стадии реализации задача генетического анализа для определения риска развития социально-значимых болезней и определения фенотипических проявлений ранних стадий заболеваний [34]. Наконец, наряду с адекватным мониторингом использования лекарств и предотвращения их побочного действия с учетом индивидуальных, генетических особенностей пациента проводится работа по популяционному генетическому анализу, прогнозу и разработке профилактических мероприятий для групп повышенного риска. С 2016 г. в РФ начата и успешно развивается программа «Российский геном», в рамках которой предполагается провести секвенирование 2500 человек из разных регионов и разных этнических групп населения России [35].
Внедрение секвенирования нового поколения, создание обобщенных генетических и клинических баз данных – путь к точной персонализированной медицине обозримого будущего, в которой решающую роль в профилактике частых заболеваний, их диагностике и лечении будет иметь информация об особенностях индивидуального генома человека, его генетического паспорта [34, 35].
По мнению известных отечественных ученых, решение проблемы эффективности защиты населения от массовых вирусных инфекций на современном уровне невозможно без учета межэтнического полиморфизма HLA, определяющего чувствительность к инфекциям и реакцию на массовую вакцинацию. Современные достижения генетики человека делают возможным последовательный вывод системы профилактической медицины на уровень генетической персонализации1.
Согласно существующим представлениям, на долю наследственных факторов, то есть самих генов, приходится только 20–30%, тогда как на 70–80% здоровье человека и, соответственно, возникновение различных многофакторных заболеваний обусловлено эпигенетическими факторами: образом жизни, неблагоприятными внешними воздействиями и пр. [36]. Поэтому, помимо генетических исследований, в генной инженерии набирает силу и эпигенетика – исследование закономерностей экспрессии (включения/выключения) генов в клетке без изменения самой генетической информации. Как оказалось, помимо редактирования генома возможен и обратный процесс, корректировка генов человека белками-ферментами. Проявления моногенно детерминированных заболеваний, в отличие от полигенно обусловленных, в меньшей мере зависят от факторов внешней среды. Поэтому идентификация причинных генов имеет чрезвычайно важное значение в реализации задач по разработке методов коррекции и лечения этих заболеваний. В этом направлении уже есть определенные успехи, в частности, в лечении наследственно обусловленных и онкологических заболеваний.
В то же время эпидемиологический метод, сформировавшийся в недрах эпидемиологии инфекционных болезней, оказался чрезвычайно эффективным при изучении закономерностей распространения среди населения различных патологических состояний. Не случайно эпидемиологию называют «диагностической дисциплиной общественного здравоохранения» [37]. В этой связи эпидемиологические исследования служат инструментом, помогающим принимать управленческие решения в сфере общественного здравоохранения, основанные на научных данных, вскрытых причинно-следственных связях и здравом смысле.
В соответствии с новым паспортом научной специальности 14.02.022, эпидемиология –это фундаментальная медицинская наука, относящаяся к области профилактической медицины и изучающая причины возникновения и особенности распространения болезней (как инфекционной так и неинфекционной природы) в обществе с целью применения полученных знаний для решения проблем здравоохранения (профилактики заболеваемости).
На наш взгляд, структура современной эпидемиологии включает общую эпидемиологию (эпидемиологический подход к изучению болезней человека, эпидемиологическая диагностика и эпидемиологические исследования, управление и организация профилактической и противоэпидемической деятельности); эпидемиологию инфекционных болезней (общую и частную); военную и госпитальную эпидемиологию и эпидемиологию неинфекционных болезней. При этом в эпидемиологию инфекционных болезней входят такие разделы, как «вакцинология», «дезинфектология», «паразитология», которые являются, по большому счету, отдельными дисциплинами [38].
Широкое применение эпидемиологических исследований в клиниках в конце 90-х годов привело к формированию нового раздела эпидемиологии – клинической эпидемиологии, которая, в свою очередь, является основой доказательной или научно-обоснованной медицины [39]. Нередко клиническую эпидемиологию отождествляют с госпитальной эпидемиологией, на самом деле это далеко не так. Объекты их исследования существенно различаются. Можно сказать, что клиническая эпидемиология – это раздел эпидемиологии, включающий методологию получения в эпидемиологических исследованиях научно-обоснованной доказательной информации о закономерностях клинических проявлений болезни, методах диагностики, лечения и профилактики для принятия оптимального клинического решения в отношении конкретного пациента [40]. Задачей клинической эпидемиологии является разработка научных основ врачебной практики – клинических рекомендаций, свода правил для принятия клинических решений. В нашей стране клиническая эпидемиология пока еще не получила должного развития. К сожалению, многие клинические рекомендации до сих пор построены на чисто эмпирическом опыте и не имеют достаточной доказательной базы. В полной мере это относится и к профилактической медицине.
Развитие клинической эпидемиологии является необходимой предпосылкой для прогресса в медицинской науке и совершенствования практической деятельности. Многие ведущие медицинские университеты ввели клиническую эпидемиологию в обязательный курс в качестве одной из фундаментальных дисциплин. За последние годы сотрудниками кафедры эпидемиологии и доказательной медицины ФГАОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России разработаны и изданы примерная типовая программа и соответствующие учебные пособия по преподаванию клинической эпидемиологии и доказательной медицины, выдержавшие уже 2 издания [41].
К сожалению, приходится констатировать, что эпидемиология неинфекционных болезней находится сегодня на более низкой ступени развития, чем эпидемиология инфекционных болезней. Теоретическая основа эпидемиологии неинфекционных болезней не получила существенного развития за последние годы и по-прежнему остается достаточно слабой. Попытки перенести учение об эпидемическом процессе и другие теоретические концепции эпидемиологии инфекционных болезней на неинфекционную патологию были неудачными. Поэтому сегодня на основе накопленных многочисленных фактических данных по эпидемиологическим проявлениям неинфекционных болезней необходимо осуществить теоретические обобщения по закономерностям процесса формирования и распространения этой патологии [42].
Еще один важный раздел общей части эпидемиологии неинфекционных болезней – разработка и создание информационно-аналитических систем и систем управления. Назрела необходимость перехода от медицинской статистики к системам типа эпидемиологического надзора (клинико-эпидемиологического мониторинга) за отдельными неинфекционными заболеваниями да и всей соматической патологией, от отдельных профилактических мероприятий и программ – к системе управления заболеваемостью населения.
Подводя итог сказанному, следует подчеркнуть, что на пути решения этих проблем еще предстоит решить целый ряд вопросов, что позволит на основе богатейшего теоретического наследия отечественной эпидемиологии прийти к международному пониманию места и значимости эпидемиологии в структуре медицинских наук. Это связано с процессами интеграции России в мировое сообщество, формированием общего информационного и образовательного пространства.