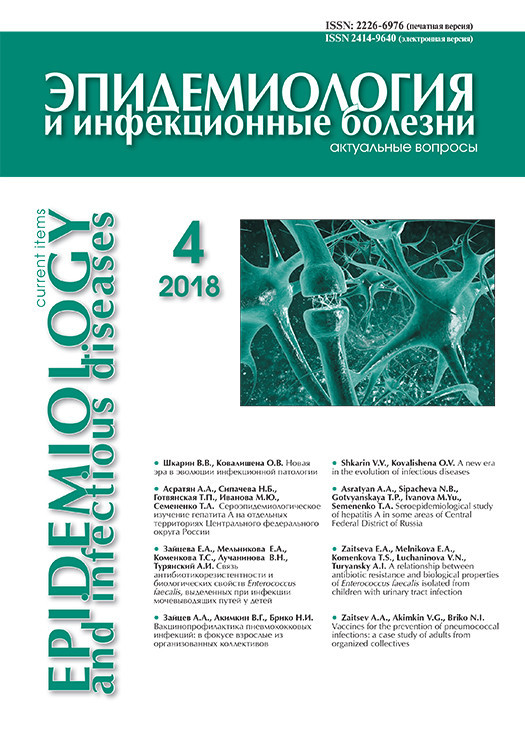Пневмококковые инфекции (ПИ) – группа острых заболеваний, вызываемых Streptococcus pneumoniae, наиболее часто поражающих ЛОР-органы (синусит, острый средний отит), легкие (пневмония, обострение хронического бронхита) и центральную нервную систему (менингит) и нередко протекающих с развитием системного инфекционного процесса (сепсис, менингит, перитонит, пневмония с бактериемией).
S. pneumoniae – грамположительный диплококк ланцетовидной либо овальной формы – обладает отрицательной каталазной и оксидазной активностью. Единственным эпидемически значимым резервуаром возбудителя является человек – бактерионоситель или больной какой-либо формой ПИ1. Впервые пневмококк был обнаружен Э. Клебсом в 1875 г. в плевральной жидкости у пациентов с пневмонией, а в 1881 г. Л. Пастер во Франции и Г. Стернберг в США одновременно зафиксировали фатальную пневмококковую септицемию у кроликов1. При микроскопии S. pneumoniae окрашивается по Граму в синий цвет (грамположительный). Главный фактор патогенности и вирулентности возбудителя – полисахаридная капсула, препятствующая фагоцитированию микробов лейкоцитами, ограничивающая аутолиз и снижающая активность антибиотиков. Антитела при вакцинации или развитии инфекции вырабатываются к антигенам капсулы пневмококка.
В зависимости от химического строения и антигенных свойств полисахаридной капсулы различают более 90 серотипов S. pneumoniae. Серотип пневмококка имеет индивидуальное строение, определяет форму и тяжесть ПИ, уровень устойчивости к антибиотикам и степень вирулентности возбудителя [1]. На распространение серотипов оказывают влияние географическое местоположение, сезон, возраст заболевших и практика применения антибактериальной терапии. Серотипы 6В, 14 и 23F в основном вызывают инвазивные ПИ (ИПИ) и, как правило, несут маркеры устойчивости к антибиотикам [2]. Согласно результатам наблюдательного проспективного исследования пациентов, госпитализированных с ИПИ (пневмония с бактериемией, бактериемия, менингит) в Бельгии2, наиболее часто встречались серотипы 19А, 3F, 1, 12F, 22F, 8, 6А и 5. У госпитализированных пациентов с внебольничной пневмонией (ВП) были распространены серотипы 14, 1, 8, 3, 19А, 5 [3]. В российском исследовании, проведенном ЮВ. Лобзиным и соавт. [4], было показано, что у больных пневмонией чаще встречаются серотипы 3, 19А, 23F, 19F.
S. pneumoniae чаще всего бессимптомно колонизирует слизистые оболочки рта и верхних дыхательных путей. Появление симптомов инфекции во многом определяется снижением резистентности макроорганизма и нарушением защитных механизмов дыхательных путей. В зависимости от клинического течения принято выделять следующие формы ПИ3: здоровое назофарингеальное носительство; местные (неинвазивные) формы; системные (инвазивные) формы.
Неблагоприятные факторы, нарушающие резистентность организма (острые респираторные заболевания, грипп, переохлаждение, стресс, нарушение защитных дренирующих механизмов и др.), способствуют проникновению пневмококка в дистальные отделы респираторного тракта, придаточные пазухи носа, полость среднего уха, вызывая местные (неинвазивные) формы ПИ (синусит, конъюнктивит, отит, бронхит, ВП). Из первичного очага возбудитель может проникать в исходно стерильные среды организма (плевральную полость, перикард, оболочки вещества головного мозга, суставную жидкость и т. д.) и вызывать системные формы ИПИ (пневмонию с бактериемией, менингит, перитонит, артрит, эндокардит, сепсис, генерализованные поражения). ИПИ характеризуются тяжелым течением и потенциально высокой летальностью.
Эпидемиология ПИ
Дети и взрослые с бессимптомной колонизацией носоглотки являются важным эпидемиологическим резервуаром пневмококка. Согласно российским данным4, в 2005 г. уровень носительства пневмококка был максимальным среди детей, проживающих в интернатах (50,7%), посещающих детские сады (49,3%), и новобранцев в армии (45%). Уровень носительства среди взрослых зависит от наличия контакта с детьми: у не контактирующих с детьми он составляет 6%, у контактирующих – 18–29%. Формирование носительства пневмококка является обязательным фактором патогенеза всех форм ПИ и основным триггером распространения антибиотикорезистентных штаммов.
Распростран енность ИПИ составляет от 10 до 100 случаев на 100 тыс. населения3. Вариабельность показателя зависит от возрастного критерия, определяется социально-экономическими и генетическими особенностями, а также серьезными различиями статистического учета в разных странах. Стоит заметить, что актуальность мониторинга заболеваемости и распространенности ИПИ определяется потенциально высоким уровнем летальности от этой формы инфекции: от 20% при септицемии до 50% при менингите в развивающихся странах. Так, в Европе летальный исход среди взрослых амбулаторных больных при ВП отмечается с частотой 1:30, среди пациентов, госпитализированных в стационары – 1:15, среди госпитализированных в отделения интенсивной терапии – 1:3. В России высокая летальность (60%) отмечается у лиц старше 65 лет при такой форме ИПИ, как пневмококковый менингит [5].
По данным, полученным из 85 регионов РФ, за период с 2003 по 2006 г. было зарегистрировано 1265 случаев пневмококковых менингитов, из них 228 – с летальным исходом. Таким образом, расчетный показатель заболеваемости пневмококковыми менингитами составил 0,15–0,24 на 100 тыс. населения, летальность – 18,2% [6]. Важно, что наибольшее число пневмококковых менингитов отмечено среди взрослого населения: доля лиц старше 25 лет составила 61%, в том числе лиц в возрасте 45–64 лет – 29% всех случаев пневмококковых менингитов. В исследовании, охватывающем широкий период 1979–2008 гг.5, было показано, что в общей структуре бактериальных гнойных менингитов у взрослого населения Санкт-Петербурга преобладали процессы, обусловленные менингококковой и пневмококковой инфекцией (при установленной этиологии в 55–65% случаев).
S. pneumoniae является самым частым возбудителем ВП, на его долю приходится до 30–50% случаев ВП установленной этиологии [7–9]. В периоды эпидемий гриппа пневмококк также занимает лидирующие позиции, опережая Staphylococcus aureus и Haemophilus influenzae [10, 11].
В России заболеваемость ВП в 2016 г. составила 418,02 на 100 тыс. населения, что на 24% выше показателя 2015 г. Наиболее высокие цифры заболеваемости отмечены в Дальневосточном и Уральском федеральных округах (560,84 и 505,31 на 100 тыс. населения соответственно). По данным выборочных исследований, проведенных в ряде округов РФ [Северо-Западном (Новгородская область), Приволжском (Самара) и Дальневосточном (Якутск)], пневмококковая этиология ВП была подтверждена в 10,6–25,9 % случаев у госпитализированных в стационар взрослых из разных возрастных групп [12].
В структуре смертности от болезней органов дыхания в РФ в 2015 г. на долю пневмоний приходилось 49,9%, смертность в 2016 г. составила 21 на 100 тыс. населения.
ВП остается наиболее актуальной проблемой и для военного здравоохранения. Так, по данным отчетов медицинской службы Минобороны России [9, 13], заболеваемость ВП среди военнослужащих по призыву достигает 30‰ и выше, а в отдельных учебных подразделениях – 60–80‰. Среди военнослужащих по контракту заболеваемость пневмонией ежегодно регистрируется на уровне 5–6‰.
Известны данные о заболеваемости ВП среди военнослужащих других силовых ведомств. Так, в 2000 г. заболеваемость ВП среди военнослужащих внутренних войск МВД России, проходящих службу по призыву, была самой высокой за весь период наблюдения и составила 56,7‰, а в воинских частях с высоким риском развития инфекций дыхательных путей – 114,6‰. В 2000–2001 гг. средний уровень заболеваемости ВП среди военнослужащих по призыву был наиболее высоким за весь период наблюдения и составил 53,7‰ [14].
Проблема резистентности пневмококка к антимикробным препаратам
Трудность в борьбе с ПИ представляет антибиотикорезистентность возбудителя, осложняющая лечение больных, вынуждающая использовать антибактериальные препараты второй и третьей линии терапии. Это увеличивает затраты на лечение и сроки госпитализации. Актуальной проблемой является также распространение среди пневмококков изолятов со сниженной чувствительностью к β-лактамным антибактериальным препаратам, в первую очередь пенициллинам, и рост устойчивости к макролидам.
В Российской Федерации в настоящее время проблема антибиотикорезистентности S. pneumoniae также является ключевой. Как показало российское многоцентровое исследование ЦЕРБЕРУС, проведенное в 2011–2012 гг.6, уровень устойчивости пневмококков к пенициллину, цефалоспоринам III поколения и эритромицину составил 3,8, 2,8 и 15,4% соответственно, и эта негативная тенденция будет усугубляться с течением времени. Согласно данным зарубежного многоцентрового исследования, в котором участвовали и российские центры [15], частота выявления штаммов S. pneumoniae, нечувствительных к амоксициллину, азитромицину и кларитромицину, составила 8,1, 43,2 и 43,2% соответственно. По данным исследования ПеГАС IV (2010–2013 гг.)7, уровень устойчивости пневмококков к пенициллину и аминопенициллинам составил 4,7 и 1,4% соответственно, частота выявления S. pneumoniae, резистентного к цефтриаксону – 5,3%; доля умеренно резистентных штаммов – 2,8%. Резистентность пневмококка к различным макролидам варьирует в пределах 18,2–27,4%.
В настоящее время установлено, что антибиотикорезистентность характерна для серотипов пневмококка 6В, 9V, 14, 19F, 23F, 6A и 19A.
Соответственно при массовой плановой иммунизации вакцинами, содержащими эти серотипы пневмококка, прогнозируется снижение уровня заболеваемости ПИ.
Факторы риска развития ПИ
Факторы риска развития тяж елых форм ПИ делятся на:
- эндогенные: возраст (дети до 2 лет, взрослые старше 65 лет); наличие хронических заболеваний легких (хроническая обструктивная болезнь л егких увеличивает риск развития ПИ в 4 раза, бронхиальная астма – в 2 раза, саркоидоз и бронхоэктазы – в 2–7 раз [15]); дефицит массы тела; лечение ингаляционными и системными глюкокортикостероидами; сопутствующие заболевания (нарушения в системе иммунитета, в том числе ВИЧ; заболевания почек, аспления, гомосексуализм, хронические заболевания сердца, диабет);
- экзогенные: организованный коллектив (воинские коллективы, стационары длительного пребывания, дома престарелых, интернаты, детские сады); профессиональный контакт с парами металлов, газообразными веществами, минеральной или любой другой пылью; курение.
ПИ, как правило, протекает в виде спорадических случаев, однако возможно и возникновение вспышек. Важным условием для подобного распространения ПИ является такой социальный фактор, как скученность пребывания. В связи с этим в группу повышенного риска попадают военнослужащие по призыву; студенты; лица пожилого возраста, проживающие в домах для престарелых; пациенты, находящиеся на длительном стационарном лечении.
Согласно ряду публикаций [16–19], ПИ является значимой проблемой для военно-медицинской службы разных стран. Очевидно, что групповая или вспышечная заболеваемость в организованном коллективе наносит существенный экономический ущерб и подрывает боеготовность. Это обусловливает особое внимание к мониторингу ПИ у военнослужащих.
В Финляндии в 2009 г. был опубликован отчет о вспышке внебольничной ПИ среди призывников: заболели 5 новобранцев из 43 ранее здоровых мужчин, призванных на военную службу. Была установлена высокая доля носительства в данном военном коллективе – 42% призывников, что коррелирует с российскими данными [20], согласно которым частота носительства пневмококка в первые месяцы формирования воинского коллектива достигала 23%. В ходе лабораторных исследований (посев крови, мазки из носоглотки, серотипирование пневмококков) были выделены серотипы 7F и ST2331. В отчете акцентировано внимание на потенциально высокой способности пневмококка 7F вызывать ИПИ [19].
Исследования военных специалистов подтверждают высокую распространенность респираторных инфекций в ходе боевой подготовки и военных операций, проходящих в сложных условиях окружающей среды [21]. Среди факторов риска возникновения респираторных инфекций у новобранцев выделяют скученность проживания, неблагоприятные климатические условия, физическое перенапряжение, психологический стресс, которые снижают иммунную защиту. Авторы подчеркивают необходимость проведения своевременной профилактической вакцинации: до применения вакцины 80% рекрутов переносили респираторные заболевания, 20% были госпитализированы, а во время военных операций в Ираке и Афганистане отмечена высокая заболеваемость инфекциями респираторного тракта: число заболевших составило 39,5–69%.
Известно, что вновь прибывшие в организованный коллектив военнослужащие высокочувствительны к ПИ, так как только 15% из них имеют условный защитный уровень антител к наиболее распространенным серотипам ПИ8. Кроме того, неблагоприятное сочетание распространенного носительства ПИ и сниженного иммунитета увеличивает риск заболеваемости пневмонией [17, 20, 22].
В Израиле было проведено исследование среди призывников [23], выявившее быстрое распространение носительства пневмококка в организованном коллективе, особенно в зимний период. S. pneumoniae выделен в 202 случаях у 747 военнослужащих (всего проведено 1872 визита); 37% военнослужащих были носителями пневмококка по меньшей мере 1 раз за период военной подготовки. Было идентифицировано 40 серотипов S. pneumoniae. Около 20% всех случаев носительства отмечаены в первые 6 нед. после призыва. Максимальный уровень носительства установлен в зимний период. Было отмечено, что пользование одной посудой является наиболее значимым фактором распространения носительства пневмококка и создает угрозу вспышечной заболеваемости пневмонией.
Одно их крупнейших исследований было проведено военно-медицинской службой США [16]. Оно включало 3367 моряков-новобранцев, среди которых в ноябре 2000 г. зарегистрирована вспышка пневмонии – 25 случаев, 12 из них вызваны S. pneumoniae серотипов 4 и 9В. С целью ликвидации вспышки заболевшие моряки были изолированы. В военном коллективе проведена профилактика азитромицином и вакцинация ППВ23. Вспышка успешно ликвидирована. Рецидивов ПИ не отмечено, что свидетельствует об эффективности проведенной профилактики.
В 2005 г. опубликованы данные о вспышке пневмококковой пневмонии в армии Израиля [24]. Заболевание было диагностировано у 15 военнослужащих из 596. Общая заболеваемость пневмонией составила 5,5%. S. pneumoniаe (серотип 5) был выделен у 4 больных ВП и 30 здоровых, входящих в число 124 контактных лиц (24,1%). Указанный серотип отличался высокой вирулентностью и коротким периодом носительства. Дальнейшее распространение инфекции было остановлено благодаря вакцинации ППВ23. Кроме вакцинопрофилактики превентивные меры включали терапию антибактериальным препаратом азитромицин (2 дозы). При контроле в динамике через 24 и 45 дней отмечена эффективность предпринятых мер: носительство пневмококка составило менгее 1%.
В России заболеваемость пневмонией также актуальна для военно-медицинской службы [13, 17 22]. По данным исследований8,9, основными факторами риска ее развития у молодых мужчин в организованных коллективах являются:
- отсутствие вакцинации против ПИ и актуального вируса гриппа;
- снижение массы тела;
- хронические заболевания верхних дыхательных путей;
- повторные пневмонии;
- заболевание ОРВИ;
- курение.
Законодательная база вакцинопрофилактики против пневмококка у лиц, подлежащих призыву на военную службу
В Российской Федерации проведение иммунопрофилактики регламентировано Федеральным законом от 17.09.98 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», Приказом Минздрава России от 21.03.14 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям». В 2014 г. в национальный календарь в категорию «по эпидемиологическим показаниям» включено показание для вакцинации против пневмококка лиц, подлежащих призыву на военную службу.
Пневмококковые вакцины
В настоящий момент в РФ с целью профилактики ПИ у взрослых применяют пневмококковые вакцины двух типов:
- полисахаридные (пневмококковая полисахаридная 23-валентная вакцина – ППВ23);
- конъюгированные (пневмококковые конъюгированные вакцины 10- и 13-валентные – ПКВ10, ПКВ13).
Полисахаридные вакцины действуют по механизму Т-независимого иммунного ответа. В качестве антигенов они содержат высокоочищенные капсульные полисахариды, активирующие В-лимфоцит, запускающие клональную экспансию В-лимфоцитов и продукцию ими антител класса IgM.
Инактивированная вакцина ППВ23 состоит из очищенных капсульных полисахаридов 23 серотипов пневмококка (1, 2, 3, 4, 5, 6В, 7F, 8, 9N, 9V, 10F, 11F, 12F, 14, 15B, 17F, 18C, 19A, 19F, 20, 22F, 23F, 33F), содержит 11 уникальных серотипов, которые отсутствуют в конъюгированных вакцинах10.
В РФ применение ППВ23 разрешено у детей с 2 лет и у взрослых в возрасте от 18 до 64 лет, входящих в группу риска, а также рекомендовано всем людям в возрасте 65 лет и старше в объеме 1 дозы. Способ применения: вводится внутримышечно или глубоко подкожно в дозе 0,5 мл. Уровень серотип-специфических антител снижается через 5–10 лет, длительность иммунитета у пожилых лиц после первичной вакцинации – 5 лет. Ревакцинация, как правило, хорошо переносится.
По результатам метаанализа, проведенного G. Falkenhorst и соавт. в 2016 г. [25], применение ППВ23 у взрослых старше 60 лет демонстрирует сравнимую с коньюгированной вакциной эффективность в отношении профилактики ИПИ, а также вследствие большего охвата серотипов в условиях массовой иммунизации детей ПКВ13 вакцинация ППВ23 продолжает играть важную роль в защите взрослых от ИПИ и пневмококковой пневмонии.
Конъюгированные вакцины формируют Т-зависимый иммунный ответ, обусловленный конъюгацией полисахаридов с белком-носителем, поэтому особенностью этих вакцин является хорошая распознаваемость конъюгированного антигена иммунной системой младенца, стимуляция высокого антительного ответа и выработка долговременной иммунологической памяти.
Вакцина включает полисахариды 13 серотипов пневмококка (1, 3, 4, 5, 6А, 6В, 7F, 9V, 14, 18С, 19F, 19А и 23F), индивидуально конъюгированные с белком-носителем CRM197 и адсорбированные на фосфате алюминия11. Способ применения: вводится внутримышечно в дельтовидную мышцу плеча в разовой дозе 0,5 мл.
По результатам крупномасштабного исследования CAPiTA, включившего 84 496 участников, доказана эффективность ПКВ13 у пациентов в возрасте 65 лет и старше в профилактике первого эпизода ВП, вызванной вакцинными серотипами, включая инвазивные и неинвазивные случаи, – 45,6% (95% ДИ 21,8–62,5); эффективность в отношении первого эпизода неинвазивной ВП, вызванной вакцинными серотипами – 45% (95% ДИ 14,2–65,3) и эффективность относительно первого эпизода ИПИ, вызванной вакцинными серотипами – 75% (95% ДИ 41,4–90,8) [26]. Эффективность проведенной вакцинации не снижалась на протяжении всего периода исследования (3,97 года). На основании результатов исследования CAPiTA впоследствии был проведен ретроспективный анализ данных иммунокомпетентных пожилых людей с факторами риска (хронические заболевания сердца, легких, сахарный диабет) [27]. Как оказалось, эффективность вакцинации ПКВ13 у больных диабетом составила 89,5%.
В масштабном исследовании J. McLaughlin и соавт. [28] изучали эффективность применения ПКВ13 у лиц в возрасте 65 лет и старше. В исследование были включены пациенты, госпитализированные по поводу ВП с подтвержденной историей пневмококковой вакцинации (n = 2034). 88% участников исследования имели 1 или более факторов риска, среди которых превалировали хроническая обструктивная болезнь легких (52,6%), болезнь коронарных артерий (35,4%), хроническая сердечная недостаточность (31,9%) и сахарный диабет (32,2%). Серотипы пневмококка, входящие в состав ПКВ13, идентифицированы у 68 (3,3%) пациентов из них у 6 (8,8%) наблюдалась бактериемия. Эффективность ПКВ13 у больных с ВП составила 72,8%, у пациентов с ВП без бактериемии –70,1%.
Проблемы вакцинопрофилактики пневмококковыми вакцинами у лиц, призываемых на военную службу/военнослужащих
Стоит отметить, что в настоящее время возможности пневмококковой вакцинации в плане профилактики пневмонии и других болезней органов дыхания у военнослужащих в разных странах мира оцениваются весьма невысоко. В качестве примера можно привести данные анализа заболеваемости респираторными инфекциями среди морских пехотинцев на островах Пэррис-Айленд и Сан-Диего (2007–2014 гг.) [29]. В Сан-Диего регулярно проводилась вакцинация пневмококковой полисахаридной вакциной всех новобранцев в течение первых двух дней после прибытия в учебную часть. В ходе наблюдения значимых различий в показателях заболеваемости не отмечено, и был сделан вывод о том, что заболеваемость ВП у морских пехотинцев не связана с одной единственной этиологией, а меры контроля должны включать сочетание вакцинных мероприятий и немедицинских мер, снижающих бремя циркулирующего в коллективе инфекционного агента.
В рамках плацебо-контролируемого исследования K.L.Russell и соавт. [30], включившего 158 347 молодых людей из организованных коллективов, профилактическая эффективность ППВ23 не была продемонстрирована. У 371 военного стажера была диагностирована пневмония, однако ни в одном случае не был выявлен S. pneumoniae (аденовирус – 38%, Chlamydophila pneumoniae – 9% и Mycoplasma pneumoniae – 8%). Авторы сделали вывод о нецелесообразности рутинного применения ППВ23 у новобранцев.
В то же время все авторы признают, что, несмотря на отсутствие положительного воздействия ППВ23 на заболеваемость ВП, возможности и необходимость ее применения у призываемого на военную службу контингента связаны с уменьшением частоты тяжелых ИПИ, снижением числа тяжелых пневмоний и, соответственно, летальных исходов [17, 18].
Поэтому в настоящее время рекомендации по вакцинопрофилактике военнослужащих армии США звучат следующим образом: вакцинация против пневмококка рекомендуется лицам, находящимся в условиях повышенного риска развития ПИ12.
В России с 2014 г. вакцинация против пневмококка у лиц, подлежащих призыву на военную службу, регламентирована федеральными документами.
При выборе режимов вакцинации у взрослых из организованных коллективов в РФ необходимо понимать, что важное значение имеет распространение серотипов пневмококка в разных регионах страны и, соответственно, оценка соответствия состава вакцин преобладающим серотипам. В ряде работ [18, 31–34] было показано, что наиболее важными серотипами на территории России являются 19А/Б, 3, 23Б, 6, 14 и 23А. Учитывая это, особенных различий между 13- и 23-валентными вакцинами не наблюдается [18, 31]. В то же время И.В. Фельдблюм и соавт. [35] отмечают, что в серотиповом составе циркулирующих штаммов пневмококка в назофарингеальных мазках среди взрослого населения в Перми чаще встречались штаммы серогруппы 6A/B/C (15,6%), серотипы 9A (12,5%), 19F, (9,3%), 23F (9,3%) и 3 (9,3%). Оценка перекрытия циркулирующих серотипов пневмококка показала, что ППВ23 охватывает на 13% больше серотипов, вызывающих ИПИ, чем ПКВ13. Следует также понимать, что уже существует риск вытеснения вакцинных штаммов S. pneumoniae серотипами, не входящими в состав конъюгированных вакцин, и, конечно, массовая иммунизация детей в РФ с течением времени будет сопровождаться замещением серотипов, наиболее часто вызывающих ИПИ [31]. В такой ситуации наличие дополнительной «защиты» от не вошедших в состав ПКВ13 серотипов путем применения ППВ23 у призываемого контингента будет востребовано.
Стоит отметить более высокий защитный потенциал конъюгированных вакцин. Кроме того, способность снижать коллективный уровень назофарингеального носительства является важным фактором, свидетельствующим о перспективах использования этого вида вакцин у военнослужащих.
До настоящего времени не проведено ни одного хорошо организованного исследования, которое, возможно, смогло бы представить объективные российские данные о возможностях применения ПКВ13 у лиц, призываемых на военную службу. Справедливости ради стоит отметить наблюдение, включившее 124 военнослужащих, вакцинированных ПКВ13, и 122 новобранца, получивших перед призывом 1 дозу ППВ23. В группе ПКВ13 через 3 мес. не было случаев ВП, тогда как в группе ППВ23 зарегистрировано 3 случая пневмонии. В группе ПКВ13 число ОРЗ и острого бронхита было в 1,2 раза, а острого тонзиллита – в 3,4 раза меньше, чем в группе ППВ23. В отношении результатов данного наблюдения вызывает вопросы небольшая выборка и снижение заболеваемости не только пневмонией, но и острыми респираторными инфекциями, включая острый бронхит, которые являются заболеваниями вирусной этиологии, а также снижение случаев острого тонзиллита, в отношении которых пневмококковая вакцинация не оказывает какого-либо влияния. Поэтому необходимы хорошая организация и проведение серьезных клинико-эпидемиологических исследований возможностей применения ПКВ13 у новобранцев.
В то же время в России имеется позитивный опыт применения ППВ23 у военнослужащих. Исследовательской группой под руководством акад. РАН В.Г. Акимкина суммирован многолетний опыт применения ППВ23 в Вооруженных Силах РФ. Отмечено, что пневмония у привитых протекала значительно легче: не было осложнений и летальных исходов, средняя продолжительность болезни была на 6,2 дня меньше [17]. Согласно данным других авторов [36, 37], в подразделениях МВД России заболеваемость ВП снизилась с 178 до 40,9 на 1000 человек (или ‰) при 50% охвате вакцинацией ППВ23 и до 5,3 на 1000 человек (или ‰) при охвате вакцинацией 96–98%.
Критически оценивая полученные в ходе цитируемых исследований результаты влияния вакцинации на заболеваемость ВП, авторы данной публикации поддерживают необходимость применения ППВ23 у призывников, так как оно сопровождается снижением числа тяжелых ИПИ и тяжелых пневмоний. В будущем «идеальной» ситуацией с эпидемиологической точки зрения станет массовая иммунизация детей конъюгированной вакциной, а для большего охвата серотипов – вакцинация лиц, подлежащих призыву на военную службу, ППВ23. Предлагаемая рядом экспертов последовательная вакцинация призывников вначале ПКВ13, а через 1 год ППВ23 попросту невозможена, так как в настоящее время срок службы в Вооруженных Силах РФ составляет 12 мес. Кроме того, отсутствуют доказательства профилактической и экономической целесообразности такого подхода, что требует дальнейших исследований.
Таким образом, в настоящее время, согласно ведомственным рекомендациям по диагностике, лечению и профилактике пневмонии у военнослужащих [22], лицам, подлежащим призыву на военную службу, для профилактики ПИ рекомендуется вакцинация ППВ23.
Тревогу врачей вызывает недостаточный охват вакцинацией призываемого контингента. По имеющимся данным, в разных регионах и субьектах РФ он составляет от 7 до 17%.
Следующая чрезвычайно актуальная проблема связана организацией проведения вакцинации призывникам. В разных регионах эти мероприятия организуются по-разному. В ряде случаев вакцинация осуществляется в отделах военных комиссариатов в день отправки или на городском сборном пункте (в день прохождения медицинского осмотра), а эти сроки не позволяют добиться формирования поствакцинального иммунитета: защитные уровни антител к типоспецифическим капсульным антигенам пневмококков обычно появляются к 3-й неделе после вакцинации, и оптимальным является введение вакцины за 1–2 мес. до призыва на военную службу. В этой связи вакцинацию целесообразно проводить:
- на этапе городских поликлиник (в период выполнения обязательных диагностических исследований) до прохождения медицинского освидетельствования. К сожалению, этот способ малоэффективен из-за низкой исполнительности граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- в отделах военных комиссариатов в день заседания призывной комиссии. На сегодня это оптимальное решение, поскольку вакцинируются уже призванные граждане, ожидающие отправки к месту службы, а также максимально выдерживается период иммунизации.
Схемы вакцинации против ПИ
с позиций российского экспертного сообщества (для лиц, не имеющих иммунокомпрометирующих состояний)
В настоящее время российскими экспертами обсуждается проект Федеральных клинических рекомендаций по вакцинопрофилактике ПИ14
Предлагается лицам в возрасте 18–64 лет:
- не имеющим иммунокомпрометирующих состояний; курильщикам табака пользователям электронных сигарет, вейпов и проч.; имеющим профессиональные вредности для дыхательной системы; медицинским работникам, а также направляемым и находящимся в организованных коллективах как специальных условиях пребывания (призывникам; лицам, работающим вахтовым методом, находящимся в местах заключения, пребывающим в социальных учреждениях – домах инвалидов, домах сестринского ухода, интернатах и т. д.); реконвалесцентам острого среднего отита, менингита, пневмонии; страдающим алкоголизмом – вводить 1 дозу ППВ23;
- не имеющим иммунокомпрометирующих состояний (в том числе привитым ПКВ не менее 1 года назад), за 1–2 мес. до призыва на военную службу или при помещении их в специальные условия содержания – вводить 1 дозу ППВ23 [14, 38];
- страдающим хроническими заболеваниями легких (ХОБЛ, бронхиальная астма, эмфизема), сердца (ИБС, кардиомиопатия, сердечная недостаточность), печени (в том числе циррозом), почек, сахарным диабетом – вводить 1 дозу ПКВ13, затем (через 1 год) – 1 дозу ППВ23.
Заключение
ПИ являются актуальной проблемой для воинских коллективов. Заболеваемость пневмонией среди военнослужащих по призыву всех силовых ведомств достигает 30–50‰, при этом в среднем каждый 10-й случай заболевания характеризуется тяжелым течением, необходимостью лечения в отделениях реанимации и интенсивной терапии, что требует привлечения серьезных экономических ресурсов. Кроме того, ежегодно наблюдаются тяжелые формы пневмонии, протекающие с бактериемией, полиорганной недостаточностью и случаями фатального исхода, что у молодых здоровых лиц, призванных на военную службу, является чрезвычайно трагичным.
Несмотря на сдержанное отношение к профилактической эффективности пневмококковых вакцин в отношении пневмонии у молодых людей, ценность и необходимость вакцинопрофилактики тяжелых ИПИ у военнослужащих силовых ведомств Российской Федерации не вызывает сомнений. Так, по данным ряда исследований [17, 36, 37], применение полисахаридной вакцины сопровождается сокращением числа тяжелых ИПИ и тяжелых пневмоний. Принимая во внимание долговременную иммунологическую память и перспективные возможности применения конъюгированных вакцин для снижения уровня носительства пневмококка, необходимо продолжить исследования с целью получения объективных данных о профилактической эффективности и экономической целесообразности разных режимов вакцинации с учетом превалирующих серотипов.
Очень важен и тот факт, что, несмотря на положения национального календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям, охват вакцинацией против пневмококка лиц, призываемых на военную службу, крайне недостаточен и составляет в разных регионах от 7 до 17%. Другой насущной проблемой является правильная организация прививочной компании, учитывающая, в том числе, временные рамки: введение вакцины за 1–2 мес. до призыва на военную службу.